Архив номеров
Чтение стихов на публику – очень давняя традиция, в разные эпохи приобретавшая самые разные формы – от камерных литературных салонов до выступлений поэтов на стадионах. Что дает публичность звучащей поэзии? На размышления об этом натолкнула беседа с Львом Колотиловым, известным в Вологде чтецом, мастером художественного слова.
Светлана Гришина
Казалось бы, лирика – это нечто личное, сокровенное, предполагающее своеобразный диалог один на один – диалог поэта и читателя. Тем не менее, чтение стихов на публику – очень давняя традиция, в разные эпохи приобретавшая самые разные формы – от камерных литературных салонов до выступлений поэтов на стадионах. Что дает публичность звучащей поэзии? На размышления об этом натолкнула беседа с Львом Колотиловым, известным в Вологде чтецом, мастером художественного слова. На протяжении многих лет ему, «технарю» по образованию и роду деятельности, удавалось совмещать работу руководителя крупного производства с выступлениями на сцене, и он считает, что увлеченность творчеством ни в коей мере не роняет профессионального авторитета инженера.
Лев Иринархович, как и когда вы, человек с техническим образованием и профессией, пришли к художественному чтению стихов?
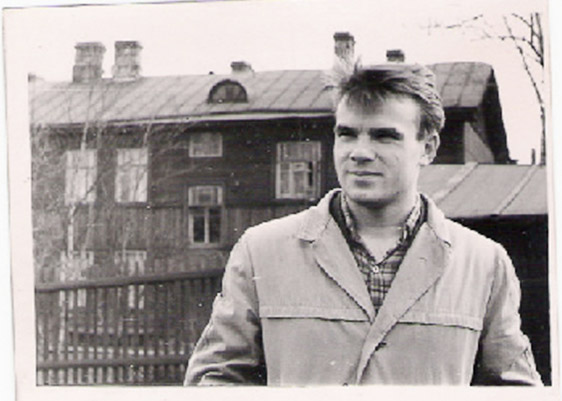 Учился я в Ленинграде, в военно-механическом институте (сегодня – Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – прим. авт.). Почти все сокурсники – коренные ленинградцы. Задаю во время лекции вопросы – и чувствую, приглушенные смешки какие-то идут по аудитории. А я же парень самолюбивый. Думаю, мой вологодский говор меня выдает. И вот иду как-то раз по Измайловскому проспекту – смотрю, на заборе вывеска: заслуженный артист РСФСР Эдуард Велецкий ведет набор в студию художественного чтения. Я стал ходить к нему на занятия – хотелось научиться говорить чисто и правильно. Пропускал, конечно, и сценическую речь, и актерское мастерство – потом уже понял, что зря, для кругозора это было бы очень полезно. И, тем не менее, Велецкий меня отметил: у тебя, говорит, удивительное чувство интонирования – не всякий артист им владеет.
Учился я в Ленинграде, в военно-механическом институте (сегодня – Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова – прим. авт.). Почти все сокурсники – коренные ленинградцы. Задаю во время лекции вопросы – и чувствую, приглушенные смешки какие-то идут по аудитории. А я же парень самолюбивый. Думаю, мой вологодский говор меня выдает. И вот иду как-то раз по Измайловскому проспекту – смотрю, на заборе вывеска: заслуженный артист РСФСР Эдуард Велецкий ведет набор в студию художественного чтения. Я стал ходить к нему на занятия – хотелось научиться говорить чисто и правильно. Пропускал, конечно, и сценическую речь, и актерское мастерство – потом уже понял, что зря, для кругозора это было бы очень полезно. И, тем не менее, Велецкий меня отметил: у тебя, говорит, удивительное чувство интонирования – не всякий артист им владеет.
Когда учеба закончилась, я мог остаться в Ленинграде, но поехал в Пермь – во-первых, позвала романтика, во-вторых, пообещали работу на предприятии, входившем в организационную структуру Королёва. Прошел путь от старшего мастера до начальника цеха.
Как удавалось совмещать такую работу с выступлениями на сцене? Наверное, они не поощрялись?
 Ой, не то слово!.. Это был почти позор! (улыбается). Порядки на оборонном предприятии очень строгие, по сути, военные. Помню, я был заместителем начальника цеха по производству – и встал вопрос, ставить ли меня на должность начальника. И секретарь парткома, и главный инженер, и начальник производства – на обсуждении моей кандидатуры все в один голос сказали: «Вы заканчивайте с вашими экивоками в отношении сцены. Нужно определяться – или вы артист, или на производстве работаете». На самом деле, ничего крамольного в этом нет – человек может быть кем угодно, в том числе крупным руководителем, и в то же время любить, например, петь, сочинять, читать стихи… Я, конечно, остался работать, но путь на сцену всё равно потом нашел. Сначала позвали в выездную концертную бригаду, потом я стал внештатным сотрудником Пермской филармонии. Везде нас встречали с радостью: артисты приехали! А я был молодой, лет 28-ми, – конечно, мне всё это нравилось и было интересно.
Ой, не то слово!.. Это был почти позор! (улыбается). Порядки на оборонном предприятии очень строгие, по сути, военные. Помню, я был заместителем начальника цеха по производству – и встал вопрос, ставить ли меня на должность начальника. И секретарь парткома, и главный инженер, и начальник производства – на обсуждении моей кандидатуры все в один голос сказали: «Вы заканчивайте с вашими экивоками в отношении сцены. Нужно определяться – или вы артист, или на производстве работаете». На самом деле, ничего крамольного в этом нет – человек может быть кем угодно, в том числе крупным руководителем, и в то же время любить, например, петь, сочинять, читать стихи… Я, конечно, остался работать, но путь на сцену всё равно потом нашел. Сначала позвали в выездную концертную бригаду, потом я стал внештатным сотрудником Пермской филармонии. Везде нас встречали с радостью: артисты приехали! А я был молодой, лет 28-ми, – конечно, мне всё это нравилось и было интересно.
Каковы ваши поэтические предпочтения? Вы часто выступаете со стихами Есенина – чем вас привлекает его поэзия?
Есенина люблю и, как мне кажется, хорошо чувствую его поэзию, а публика ее всегда принимает хорошо. В начале своей чтецкой карьеры я выходил с отрывком из «Анны Снегиной» – с монологом мельничихи. Зал смеется, все довольны. С Есенина начались и мои сольные концерты.
Но что еще интересно. Как показывает опыт, на вечер стихов Есенина придут 100 человек, а на Пушкина, который наше всё, придут 20. И раньше так было, и сейчас так, не знаю почему. Может быть, потому, что у Есенина ореол особый – репутация гуляки и хулигана?.. Хотелось бы, конечно, чтобы не это привлекало в поэтах.
Перед какой публикой вам приходилось выступать? Как люди реагируют на чтение стихов?
 Перед самой разной. В пору моей молодости на всех предприятиях и учреждениях активно работали профсоюзные комитеты – вопрос о культурном досуге работников стоял на повестке дня постоянно. За один выходной концертная бригада могла выступить в университете, на заводе и в банно-прачечном комбинате. Одно время я был в составе бригады, выступавшей перед туристами на теплоходе – в музыкальный салон до 100 человек набивалось. Когда вернулся в Вологду, где только не читал. Как-то раз пригласили выступить перед работниками строительного треста: в зале человек 50 прорабов – людей, от художественного слова очень далеких. И тишина. А потом аплодируют, просят читать еще, до порога провожают и говорят «спасибо». Однажды попросили почитать на свадьбе. Мне это показалось странным – кругом народ с вилками и рюмками в руках, какие тут стихи? – но, думаю, попробую. И, представьте, перестали звенеть посудой – сидят слушают. В медучилище выступал – интересно было, как отреагируют молодые девчонки. Спрашиваю потом у завуча: как думаете, понравилось им? Да что вы, говорит, ведь слушали не отрываясь! Не знаю, в какой степени я тщеславен, но такие отзывы, конечно, приятны. Часто приглашают читать в музей «Вологда на рубеже веков», был опыт выступления в Камерном драматическом театре.
Перед самой разной. В пору моей молодости на всех предприятиях и учреждениях активно работали профсоюзные комитеты – вопрос о культурном досуге работников стоял на повестке дня постоянно. За один выходной концертная бригада могла выступить в университете, на заводе и в банно-прачечном комбинате. Одно время я был в составе бригады, выступавшей перед туристами на теплоходе – в музыкальный салон до 100 человек набивалось. Когда вернулся в Вологду, где только не читал. Как-то раз пригласили выступить перед работниками строительного треста: в зале человек 50 прорабов – людей, от художественного слова очень далеких. И тишина. А потом аплодируют, просят читать еще, до порога провожают и говорят «спасибо». Однажды попросили почитать на свадьбе. Мне это показалось странным – кругом народ с вилками и рюмками в руках, какие тут стихи? – но, думаю, попробую. И, представьте, перестали звенеть посудой – сидят слушают. В медучилище выступал – интересно было, как отреагируют молодые девчонки. Спрашиваю потом у завуча: как думаете, понравилось им? Да что вы, говорит, ведь слушали не отрываясь! Не знаю, в какой степени я тщеславен, но такие отзывы, конечно, приятны. Часто приглашают читать в музей «Вологда на рубеже веков», был опыт выступления в Камерном драматическом театре.
Программу сольного концерта вы составляете сами?
Я знаю так много стихов, что если нужно, могу любую программу составить. Ну а так выхожу на сцену и говорю: «Знаете что, дорогие друзья? Я вам почитаю стихи, какие мне придут в голову». Наш вологодский музыкант Елена Распутько, услышав меня однажды, предложила делать совместные программы. В них мы выступаем, чередуясь: я читаю несколько стихотворений, потом она играет на фортепиано, подбирая созвучную стихам музыку.
Одно дело – любить стихи «для себя», и совсем другое – хотеть читать их на публике. Что движет вами в ваших публичных выступлениях?
 Тут дело в том, что мне нравится читать! И абсолютно неважно, кто меня слушает. Хотя и жаль бывает, что публика встречается неподготовленная. Вообще сейчас этот жанр давно забыт – это раньше выступления чтецов собирали огромное количество людей.
Тут дело в том, что мне нравится читать! И абсолютно неважно, кто меня слушает. Хотя и жаль бывает, что публика встречается неподготовленная. Вообще сейчас этот жанр давно забыт – это раньше выступления чтецов собирали огромное количество людей.
Как вы думаете, почему этот жанр утратил былую популярность?
Я считаю, из-за того, что мало кто владеет именно художественным чтением. Сейчас даже известные артисты не читают, а декламируют – это не задевает слушателя так сильно. Я же каждое стихотворение отрабатываю подолгу – до тех пор, пока не нащупаю нужную интонацию, пока не вживусь в ситуацию, которая в нем описана. Конечно, лирика – это прежде всего переживания, но в основе любого переживания лежат события. Их надо «вытащить», примерить на себя – и тогда родится нужная интонация.
Исполнение художественных текстов на публику – это уже их интерпретация. Какие приемы помогают донести до зрителя свое толкование стихотворения?
Главное – нащупать естественное интонирование для того события, которое лежит в основе стихотворения. Когда оно найдено, слушатель тебе начинает верить. Вот слушаю иногда по телевизору профессиональных артистов – читают, что называется, «не в дугу»… Где нужно, например, тихо и осторожно, во всю глотку кричат... «Черного человека» есенинского многие так исполняют – а ведь там, по сути, идет разговор героя с самим собой, с темной стороной его собственной больной души. Мне рассказывали, что эту поэму любят приводить в пример студентам медицинских вузов, когда изучают болезненные состояния психики. И я именно так ее понимаю: черный человек – это отражение в зеркале, на какой-то миг обретающее собственный характер и собственный голос.
Я тоже не сразу начал чувствовать суть правильного интонирования. Помню, еще учась в Ленинграде, готовил чтение отрывка из поэмы Есенина «Гуляй-поле» – фрагмента о смерти Ленина: «И вот он умер… Плач досаден. / Не славят  музы голос бед. / Из медно лающих громадин / Салют последний даден, даден». Читаю эти строки Велецкому, а он вдруг останавливает меня и спрашивает: «Ну что ты орешь?.. Это же, по сути, поминки – и звучать всё должно иначе: «Салют последний даден… даден!..» – со скорбью, со слезами в голосе.
музы голос бед. / Из медно лающих громадин / Салют последний даден, даден». Читаю эти строки Велецкому, а он вдруг останавливает меня и спрашивает: «Ну что ты орешь?.. Это же, по сути, поминки – и звучать всё должно иначе: «Салют последний даден… даден!..» – со скорбью, со слезами в голосе.
Или вот стихи «Собаке Качалова» – я этот текст понимаю совершенно иначе, нежели профессиональные артисты, мне даже чтение самого Качалова не нравится. Не так надо. Надо сесть, поиграть с этой собакой, даже посюсюкать с ней, как с ребенком, – многие так делают, и эта интонация всем понятна. Пошутить надо: «Давай с тобой полаем при луне!..» (хорошая ты псина, дай потреплю по загривку!) И все это с улыбкой – а он хвостом машет, так и норовит лизаться кинуться. И тут: «Пожалуйста, голубчик, не лижись!..» А в финале не должно быть того драматизма, который там часто пытаются увидеть – хоть герой и говорит о не отпускающей его душевной боли, но ведь это не исповедь, а шутливый разговор с собакой…
Как откликаются на ваше чтение слушатели?
Меня не перестает удивлять, что часто говорят фразу: «Вы открыли мне глаза на эти стихи!» Обязательно всякий раз кто-то скажет. Видимо, дело в том, что, читая про себя, человек не понял глубины стихотворения, не погрузился в ту ситуацию, в те переживания, которые она вызывает, – и стихи прошли мимо, не задели, не запомнились. Что ж, раз мое чтение помогает это увидеть и почувствовать – я рад.
